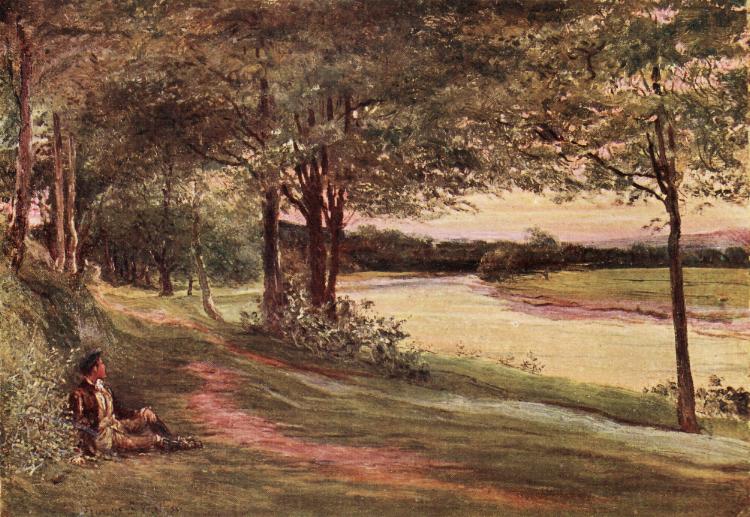|

|
| Home | Lermontov | Other Pushkin | Onegin Book I | Book II | Book III | Book IV | Book V | BookVI | BookVII | BookVIII | Gypsies | Chekhov |

CHEKHOV The husband.
|
МУЖ
|
THE
HUSBAND
|
|
|
N—ский кавалерийский полк,
маневрируя, остановился
на ночевку в уездном городишке
К. Такое
событие, как ночевка гг. офицеров, действует всегда
на обывателей самым
возбуждающим и
вдохновляющим образом. Лавочники, мечтающие о
сбыте лежалой заржавленной
колбасы и "самых
лучших" сардинок, которые
лежат на
полке уже десять лет, трактирщики и
прочие промышленники не закрывают своих заведений в течение всей ночи;
воинский начальник,
его делопроизводитель
и местная гарниза
надевают лучшие мундиры;
полиция снует,
как угорелая, а с дамами делается
чёрт
знает что!
К—ские дамы,
заслышав приближение полка, бросили
горячие тазы с вареньем и выбежали на улицу.
Забыв про свое дезабилье и растрепанный вид, тяжело дыша и замирая, они
стремились навстречу
полку и жадно
вслушивались в звуки
марша. Глядя на их бледные, вдохновенные
лица, можно было
подумать, что эти
звуки неслись не из
солдатских труб, а с неба.
— Полк!
— говорили они радостно. —
Полк идет!
А на что понадобился им этот
незнакомый, случайно зашедший
полк, который уйдет завтра же на
рассвете? Когда
потом гг. офицеры
стояли среди площади и, заложив
руки назад, решали квартирный вопрос,
все они сидели в
квартире следовательши
и взапуски критиковали
полк. Им было уже
бог весь откуда известно,
что командир женат, но не живет с
женой, что у
старшего офицера родятся
ежегодно мертвые дети, что
адъютант безнадежно
влюблен в какую-то графиню и
даже раз
покушался на самоубийство. Известно
им было всё. Когда под окнами мелькнул
рябой солдат в красной
рубахе, они отлично знали, что это
денщик подпоручика
Рымзова бегает по
городу и ищет для своего
барина в долг
английской горькой. Офицеров видели они только мельком
и в спины, но уже
решили, что между
ними нет ни одного
хорошенького и интересного... Наговорившись, они
вытребовали к себе воинского
начальника и старшин клуба и
приказали им устроить
во что бы то ни
стало танцевальный вечер.
Желание
их было исполнено. В
девятом часу вечера на
улице перед клубом гремел военный оркестр,
а в самом клубе гг. офицеры танцевали с
к—скими дамами. Дамы
чувствовали себя на крыльях. Упоенные
танцами, музыкой и звоном шпор, они всей душой отдались мимолетному
знакомству и совсем
забыли про своих
штатских. Их отцы и
мужья, отошедшие на самый задний
план, толпились в передней около
тощего буфета. Все эти казначеи,
секретари и надзиратели, испитые,
геморроидальные и мешковатые,
отлично сознавали
свою убогость и не
входили в залу, а только издали
поглядывали, как их жены и дочери танцевали с
ловкими и стройными поручиками.
Между мужьями
находился акцизный Кирилл Петрович
Шаликов, существо пьяное, узкое и злое, с
большой стриженой головой и с жирными, отвислыми губами.
Когда-то он был в университете, читал
Писарева и Добролюбова, пел песни, а теперь он говорил про себя, что он
коллежский асессор и
больше ничего. Он стоял, прислонившись к
косяку, и не отрывал
глаз от своей жены. Его
жена, Анна Павловна, маленькая
брюнетка лет тридцати, длинноносая,
С острым
подбородком, напудренная и
затянутая, танцевала
без передышки, до
упада. Танцы
утомили ее, но
изнемогала она телом, а не душой...
Вся ее фигура
выражала восторг и наслаждение.
Грудь ее волновалась,
на щеках
играли красные пятнышки, все движения
были томны, плавны; видно было, что,
танцуя, она вспоминала свое прошлое, то давнее прошлое, когда она
танцевала в институте и
мечтала о роскошной,
веселой жизни и
когда была уверена, что у нее
будет
мужем непременно барон или князь.
Акцизный глядел
на нее и морщился от злости...
Ревности
он не чувствовал, но ему неприятно было,
во-первых, что, благодаря танцам, негде было играть в карты; во-вторых, он
терпеть не мог духовой
музыки; в-третьих,
ему казалось, что
гг. офицеры слишком небрежно и свысока
обращаются со штатскими, а
самое главное,
в-четвертых, его
возмущало и приводило в негодование
выражение блаженства на женином лице...
— Глядеть противно! — бормотал он.
— Скоро ужо сорок
лет, ни кожи,
ни рожи, а тоже, поди ты, напудрилась,
завилась, корсет надела! Кокетничает,
жеманничает и воображает, что это у нее хорошо выходит...
Ах, скажите, как вы прекрасны!
Анна Павловна так ушла в танцы, что ни разу не взглянула на своего мужа.
— Конечно, где
нам, мужикам! — злорадствовал
акцизный. —
Теперь мы за
штатом... Мы тюлени, уездные медведи! А она
царица бала; она
ведь настолько еще
сохранилась, что даже
офицеры ею интересоваться
могут. Пожалуй, и
влюбиться не прочь.
Во время мазурки лицо акцизного перекосило
от злости. С Анной Павловной танцевал
мазурку
черный офицер с
выпученными глазами и с
татарскими скулами. Он работал ногами серьезно
и с чувством, делая
строгое лицо, и так выворачивал колени,
что походил на
игрушечного паяца,
которого дергают за ниточку. А Анна Павловна, бледная,
трепещущая, согнув
томно стан и закатывая глаза,
старалась делать вид, что она
едва касается земли, и,
по-видимому, ей самой
казалось, что она
не на земле, не в уездном клубе, а
где-то далеко-далеко — на облаках! Не одно только
лицо, но уже всё тело выражало
блаженство... Акцизному
стало
невыносимо; ему захотелось насмеяться
над этим блаженством, дать почувствовать
Анне Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей
теперь кажется в
упоении...
— Погоди, я покажу
тебе, как блаженно улыбаться! —
бормотал
он. — Ты не
институтка, не девочка.
Старая рожа должна понимать, что она
рожа!
Мелкие чувства зависти,
досады, оскорбленного самолюбия,
маленького, уездного человеконенавистничества,
того самого, которое заводится
в
маленьких чиновниках от водки и от
сидячей жизни, закопошились в нем, как мыши... Дождавшись конца
мазурки, он вошел в залу
и направился к жене. Анна Павловна сидела в это
время с кавалером
и, обмахиваясь веером, кокетливо
щурила глаза и
рассказывала, как она
когда-то танцевала в Петербурге. (Губы у нее были сложены
сердечком и произносила
она так: "У нас, в
Пютюрбюрге".)
— Анюта, пойдем
домой! — прохрипел акцизный.
Увидев перед собой мужа, Анна Павловна сначала вздрогнула, как бы
вспомнив, что у нее есть
муж, потом вся
вспыхнула; ей стало
стыдно, что у нее такой испитой,
угрюмый, обыкновенный муж...
— Пойдем домой! —
повторил акцизный.
— Зачем? Ведь еще
рано!
— Я прошу тебя
идти домой! — сказал акцизный с
расстановкой, делая злое лицо.
— Зачем? Разве
что случилось? — встревожилась Анна
Павловна.
— Ничего не
случилось, но я желаю, чтоб ты сию
минуту шла домой...
Желаю, вот и
всё, и, пожалуйста, без
разговоров.
Анна Павловна не
боялась мужа, но ей было стыдно кавалера, который удивленно и
насмешливо поглядывал
на
акцизного. Она
поднялась и отошла с мужем
в сторону.
— Что ты выдумал?
— начала она. —
Зачем мне домой?
Ведь еще и одиннадцати часов нет!
— Я желаю, и
баста! Изволь идти — и всё тут.
— Перестань
выдумывать глупости! Ступай сам, если
хочешь.
— Ну, так я
скандал сделаю!
Акцизный видел,
как выражение блаженства постепенно
сползало с лица его жены, как ей было
стыдно и как она страдала, — и у него стало как будто легче на душе.
— Зачем я тебе
сейчас понадобилась? — спросила жена.
— Ты не нужна
мне, но я желаю, чтоб ты сидела
дома. Желаю,
вот и всё.
Анна Павловна не
хотела и слушать, потом начала умолять,
чтобы муж позволил ей остаться еще хоть
полчаса; потом, сама не зная зачем, извинялась,
клялась — и всё это
шёпотом, с улыбкой, чтобы публика
не подумала, что у
нее с мужем
недоразумение. Она
стала уверять, что
останется еще недолго, только десять
минут, только пять минут; но акцизный упрямо
стоял на своем.
— Как хочешь,
оставайся! Только я скандал сделаю.
И, разговаривая
теперь с мужем, Анна Павловна осунулась,
похудела и постарела. Бледная,
кусая
губы и чуть не
плача, она пошла в
переднюю и стала одеваться...
— Куда же вы? —
удивлялись к—ские дамы. —
Анна Павловна, куда
же вы это, милочка?
— Голова
заболела, — говорил за жену акцизный.
Выйдя из клуба,
супруги до самого дома шли молча.
Акцизный шел сзади жены и, глядя на ее согнувшуюся, убитую горем и униженную
фигурку,
припоминал блаженство,
которое так
раздражало его в клубе, и сознание,
что
блаженства уже нет, наполняло его душу
победным чувством.
Он был рад и
доволен, и в то же время
ему недоставало
чего-то и хотелось вернуться в клуб
и
сделать так, чтобы всем стало скучно и горько и
чтобы все почувствовали, как ничтожна, плоска эта жизнь, когда вот идешь в
потемках по улице
и слышишь, как
всхлипывает под ногами
грязь, и когда знаешь,
что проснешься
завтра утром — и опять ничего, кроме
водки и кроме карт! О, как это ужасно!
А Анна
Павловна едва шла... Она
была всё еще под впечатлением
танцев, музыки, разговоров,
блеска, шума; она
шла и спрашивала себя:
за что ее покарал так господь
бог? Было
ей горько, обидно и душно от ненависти,
с которой она прислушивалась к тяжелым
шагам мужа. Она
молчала и
старалась придумать какое-нибудь
самое
бранное, едкое и ядовитое слово, чтобы
пустить его мужу, и в то же время сознавала, что
ее акцизного не проймешь никакими
словами. Что ему слова? Беспомощнее
состояния не мог бы
придумать и злейший
враг. А музыка, между тем, гремела, и потемки были полны самых плясовых, зажигательных звуков.
|
The N** cavalry
regiment, on manoeuvres, stopped overnight at a provincial town, K**. An event such as the
overnight stay of
cavalry officers always acts on the inhabitants in the most stimulating
and
inspiring fashion. Shopkeepers,
dreaming
of the sale of tired, out of date sausages and tins of ‘superlative’
sardines
which have lain on the shelves for ten years, inn-keepers and other
traders do
not close their establishments for the entire night; the commander, his
chief
clerk, and the local garrison, all put on their best uniform; the
police rush
around as if they were on fire, and God alone knows what happens to the
women! The women of K**,
hearing of the approach of the regiment, left their hot preserving pans
to the
stove and ran out into the street.
Forgetting
their casual indoor dress and dishevelled appearance, breathing heavily
and
half dead and alive, they ran out to meet the regiment and hungrily
listened to
the music of the march. Looking
at their
pale, inspired faces, one might guess that these sounds transpired from
the
heavens, and not from the trumpets of the soldiers.
“A regiment!” they exclaimed
ecstatically. “A
regiment is coming!” But why on earth
should they have any need of this unknown regiment which arrived by
chance and
which will depart at first light tomorrow?
When the officers stood in the town square and,
their hands behind their
backs, arranged the allocation of quarters, all the women sat in the
house of
the local attorney’s wife and, outdoing each other, criticized the
regiment. They
already knew, God knows how, that the
CO was married, but did not live with his wife; that the senior officer
had a
stillborn child every year; that the adjutant was hopelessly in love
with some
countess, and had once even attempted suicide. They
knew everything. When a pock-marked
soldier in a red shirt Among the husbands
there was one, a tax clerk, Cyril Shalikov, a drunken, narrow minded,
boorish
individual with a large, shaven head and fat, flabby lips. In the past he had been at
University, had
read Pisarev and Dobrolyubov, and sang songs, but now he only boasted
that he
was a civil servant, eighth grade, and nothing more.
He was standing leaning against the door-post
and did not take his eyes off his wife.
She, a little brunette of about thirty, called Anna,
with a long nose
and pointed chin, heavily powdered and corseted, danced without
stopping for
breath, until she was ready to drop.
The
dances exhausted her, but it was her body which was worn out, Her husband, the tax
clerk, looked at her and frowned with evil in his mind.
He did not feel jealous, but he was vexed,
firstly, that because of the dancing there was nowhere to play cards;
secondly,
he could not bear wind music; thirdly, it seemed to him that the
officers were
too careless and haughty in their treatment of the civilian personnel;
and
fourthly, and this was the most important, the look of bliss on his
wife’s face
disgusted him and stirred him to indignation.
“It’s revolting to look at!” he mumbled.
“She’s knocking on forty, a face like a donkey, but
just look at her,
all powdered up, and curls, even dragged out the corset! She’s flirting, mincing
her face, and there
she’s thinking she looks a splendour.
Oh
my! oh my! What a beauty you are!”
Anna was so
intoxicated with the dance that she did not once glance at her husband. “Of course, we’re
only the husbands!” he muttered spitefully.
“Now we’re on the shelf.
We’re
blubberish seals, we’re local bears!
But
she, she’s the queen of the ball!
She’s
so well preserved that even the officers can be interested in her. They might even fall in
love, if you
please!” During the mazurka
the tax clerk’s face became distorted with bile.
A swarthy officer with bulging eyes and the
cheek bones of a Tartar was dancing the mazurka with his Anna. He worked his legs seriously and with
feeling, his face quite
stern, and he turned his knees out to such an extent that he resembled
one of
those wooden toys which are jerked by pulling strings. But
Anna, pale and
trembling, bending at the waist languidly and rolling her eyes, strove
to give
the impression that she hardly touched the ground, and evidently it
seemed to
her, in her own mind, that she was not on this earth, not in the town
club-house,
but somewhere far, far away, — on the clouds!
It was not only her face, but her whole body which
expressed the utmost
bliss. For her
husband it became
unbearable. He
wanted to make a mockery
of this rapture, to make Anna Pavlovna aware that she had forgotten
herself,
that life is decidedly not as beautiful as it seemed to her now in her
state of
rapture. “Just you wait!
I’ll teach you how to smile heavenly smiles!”
he muttered. “You’re
not an undergrad,
you’re not a pert young thing! An
old
mug like yours must understand that it’s just an ugly old mug!” Petty feeings of
envy, malice, the injured pride of small-minded, provincial misanthropy
which
breeds in lowly officials from vodka and a sedentary life, seethed and
fretted
inside him like swarming mice. He
waited
to the end of the mazurka and then went into the hall towards his wife. Anna, meanwhile, had sat
down with her
cavalier and fluttered her fan, coquettishly squinting her eyes. She was relating how she
used to dance in
Petersburg. (Her
lips were formed into a
heart shape and she pronounced it ‘Pyutyursbyurg).
“Annie, we’re going
home!” her husband said wheezily.
Anna,
at first, seeing her husband standing in front of her, shuddered, as if
aghast
at remembering that she had a husband.
Then she went bright red.
She was
ashamed that such a meagre, gloomy, ordinary looking husband was indeed
hers. “We’re going home!”
he repeated. “But why?
Look, it’s still early!” “I am telling you
that we’re going home!” said the tax clerk, with deliberation, his face
scowling. “But why?
Has something happened?” asked Anna in alarm. “Nothing has
happened, but I insist that you go home this very minute. I insist on it, and that
is all, so, if you
don’t mind, we’ll have no arguments.”
Anna was not afraid
of her husband, but she was ashamed to be in the presence of the
cavalry
officer who looked with astonishment and contempt on the tax clerk. She stood up and moved
away to one side with
her husband. “What are you
thinking of?” she commenced. “Why
should
I go home? Look,
it’s not even eleven
o’clock!” “It is my
desire. Basta! Kindly get ready, that’s
all there is to
it.” “Do stop thinking up
this nonsense! Go
home yourself if you
are so keen.” The tax clerk noticed
how the expression of bliss gradually slipped away from his wife’s
face, how
ashamed she was, and what pain it was causing her, and somehow, in his
heart,
his mood was lightened. “Why do you need me
just at this moment?” she asked him.
“I don’t need you,
but I require you to be at home, sitting at home.
I require it, and that is all there is to
it.” Anna did not even so
much as wish to listen to him, but then she started to plead with him
that he
might let her stay for just half an hour.
Then, herself not knowing why, she started
apologising, protested her
innocence, and all this in a whisper, with a smile on her face, so that
the
public all around
might not see that she
and her husband were having an argument.
She started to assure him that she would not stay
for long, only ten
minutes, only five. But
the tax clerk
stubbornly held his ground. “Stay if you like,
but I shall make a scene!” And as she argued
with him Anna’s face became pinched and chilled, and she aged visibly. Pale, biting her lip, and
all but “Where are you
going?” said the other women in amazement.
“Anna, my dear, what can this mean, Anna?” “Her head is bad,”
replied the tax clerk on behalf of his wife.
On leaving the club
the couple walked all the way home in silence.
The tax clerk walked behind his wife and, looking on
her bent figure,
crushed and humiliated with grief, he remembered the bliss on her face
which so
enraged him at the club, and the realisation that this bliss was no
more filled
his soul with a feeling of victory.
He
was happy and satisfied, but at the same time something was lacking,
and he
wanted to return to the club and make it so that everyone would be
bored and
embittered, so that they all felt how worthless and meaningless this
life was,
when here you are walking in the darkness along the street, and you
hear the
grime squelching under your feet, and when you know that you will wake
up
tomorrow morning to the same old round — nothing, except vodka and
cards! What an
appalling thought! But Anna herself
hardly managed to walk. She
was still
under the impression of the dancing, the music, the conversation, the
sparkle,
the noise. She
shuffled along and asked
herself why God had so thought fit to punish her?
Bitterness, insult and suffocation welled up
in her from the hatred she felt as she listened to her husband’s heavy
footsteps. She
remained silent and tried
to think up the most abusive, caustic and poisonous thing to say to
wound him,
but at the same time she realised that her husband could not be stung
by any
form of words. What
were words to
him? Even her most
deadly enemy could
not have invented a more helpless situation for her.
Meanwhile the music
rang out and the surrounding darkness was filled with the most
dance-inspiring
and exciting sounds. |
|
| Home | Lermontov | Other Pushkin | Onegin Book I | Book II | Book III | Book IV | Book V | BookVI | BookVII | BookVIII | Gypsies | Chekhov |